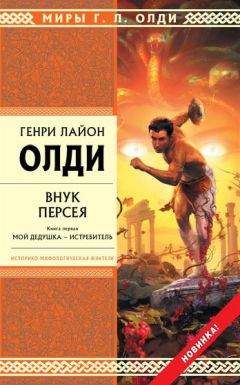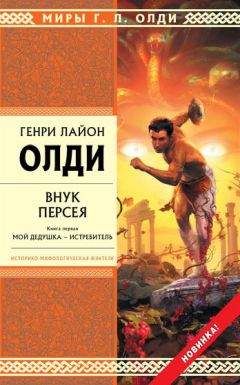Вечерело. Меж холмами копились смутные тени. Отбежав на полсотни шагов, мальчик остановился перевести дух. Поглядел на дорогу: вроде никого. Зрение в сумерках подводит? На всякий случай он протер глаза; сощурился, глянул из-под ладони, хотя солнца, способного ослепить, не было и в помине.
Дорога пустовала.
Наврала карга! Или напутала. Бабушка ушла давным-давно, а для старой дуры все, что не год назад — «только что». Хорошо еще, если бабушка и впрямь к морю направилась. Иначе ищи ее… По уму, следовало обождать до утра. Или хотя бы задуматься: с чего бы Андромеде — одной, без подобающей свиты — тащиться на берег… Нашлась причина? Значит, вряд ли бабушка, взыскующая одиночества, будет рада свидетелю — хоть внуку, хоть кому. Но деятельная натура Амфитриона требовала: немедленно! Сейчас же! Знал мальчик за собой такое: спать не будет, изведется весь, пока не проверит все возможные способы на излом.
«Не на крыльях же бабушка улетела?» — думал он, быстрым шагом двигаясь в сторону Навплии. Задрав голову к небу — словно надеялся высмотреть там летящую Андромеду — он и впрямь углядел в вышине крылатую тень. «Орел? Точно, орел. Небось, Зевс за бабушкой прислал!»
Засмеявшись, мальчик прибавил шагу.
Андромеду он увидел издалека. Закатный Гелиос прорвался сквозь клочковатую оборону туч, осветив женщину — та застыла на берегу, у кромки прибоя. Длинная тень на песке, мерный шелест волн; безмолвная статуя у воды.
Закат.
Закат жизни.
Амфитрион задохнулся. Печаль была светлой, как осенний лес. Мальчик замер, боясь нарушить хрупкое молчание. Но время шло, закат мерк, подергиваясь пеплом и золой; и он решился.
— Радуйся, бабушка.
— Радуйся и ты, — Андромеда не изменила позы. — Что ты здесь делаешь?
— Я хотел поговорить с тобой.
— О чем?
— О дедушке. Ты же видишь, что с ним творится!
— Вижу.
Женщина обернулась. Ее лицо, подумал мальчик. Что с ее лицом? Взгляд бабушки вызывал оторопь — казалось, Амфитрион был водой в роднике, и Андромеда смотрела сквозь внука, видя позади мальчика кого-то другого. Настоящего. Завтрашнего. Статую на пьедестале — камень грядущих побед и поражений. Очень хотелось оглянуться. Колоссальным усилием мальчик удержал себя от невольного движения.
— Сильный? — Андромеда улыбнулась уголками губ.
И сама себе ответила:
— Сильный, да. Это хорошо.
— Я-то сильный. А дедушка — слабый!
Слова резали хуже острых ножей. Но другого выхода не осталось, что бы там ни значило его имя.
— Ошибаешься.
— Он — пьяница. Его с троноса скинут, а он и не заметит!
— Руки коротки. Тронос твоего деда вровень с Олимпом.
— Бабушка!
— Даже богам не отнять у Персея его имени и места.
— Ага, не отнять! Он как с Дионисом помирился — словно подменили…
— Помирился? Когда?
В голосе Андромеды впервые прозвучал намек на интерес.
— Два года назад! Или нет… три…
— А пьет он с каких пор?
— Вот с тех пор…
— Два года пьет? Три?
— Нет… — смутился Амфитрион.
Что-то было не так. Он все помнил, а вслух сказал — и сразу ясно: неправильно.
— Он с лета пьет. Точно, с лета. Мы из Аргоса вернулись…
— А с Дионисом он когда помирился?
— Выходит, раньше… Давно еще…
В памяти ворочались смутные обрывки, враждуя друг с другом не хуже Пройта с Акрисием. Мириться и складываться в единую картину враги отказывались наотрез.
— Скоро ты будешь помнить то же, что и все, — вздохнула Андромеда. — Это хорошо. Иначе ты сойдешь с ума.
— При чем тут я? Я в своем уме! Надо дедушку спасать!
— Не надо.
— Бабушка!
— Оставь меня. Скоро все закончится, и ты поймешь, что я была права.
— Что закончится? Что?!
— Все.
Она обвела рукой морскую даль.
— Все, — повторила Андромеда. — Уже скоро.
— Когда?
— Десять-пятнадцать лет. Не больше. Я чувствую…
Амфитрион побрел прочь. Ночь валилась с небес темным плащом. Заботилась, кутала с головы до ног в зябкую, безвидную сырость. Озноб пронзал тело до самых костей. Дедушку все бросили. Даже бабушка. Ее бы он точно послушал! А она…
Она смотрела вслед внуку. Рядом с женщиной из подступающего мрака соткался крылатый конь бело-золотистой масти — и на берегу стало чуточку светлей. Сложив крылья, конь оскалил зубы — острые, не лошадиные — но тут же, словно устыдившись, ласково ткнулся мордой в плечо Андромеды. Та положила руку на холку Пегаса[103].
— Ревнуешь? — спросила женщина. — Зря.
Крылатый конь фыркнул.
— Сюда! Ко мне!
Перун Громовержца, ударь он ночью во дворец, объятый сном, исполин-гекатонхейр, восстань он из недр земли с целью разрушить акрополь, второй потоп, залей он Арголидскую долину — все напасти, вместе взятые, учинили бы меньший переполох, чем этот безумный вопль.
— Вставайте! Хватит спать!
Мужчины хватались за оружие, развешанное по стенам. Дозорные на стенах, не в силах покинуть пост, до рези под веками вглядывались в сумрак двора. Вопя, как резаные, выскакивали из гинекея нагие женщины. Казалось, враг уже здесь, и волочит их за волосы навстречу рабству и насилию. Мчались мальчишки, выставив перед собой ножи — подарки отцов и старших братьев. Кто-то распахивал оружейные кладовые, призывая разбирать копья. Ковылял Алкей-хромец, проклиная сухую ногу. Бежал Сфенел с мечом в руке. Братья забыли о вчерашнем разговоре, о призраке мятежа. Человеческая плоть выплеснулась из дворца, как вино — из кратера, опрокинутого властной рукой. В едином порыве, готовые сражаться до последнего, они сбегались отовсюду, ибо Персей Горгофон звал сорванным голосом:
— Ко мне!
И откликалось эхом:
— Что?
— Кто?
— Где?!
В испуге разбежались тучи. Ветер, вольный пастух, ринулся вдогон. Луна залила двор желтым молоком. Внизу, под холмом, проснулся город. Гвалт тиринфян вплелся в какофонию, царившую на акрополе. Судя по всему, горожане решили, что Пелопс Проклятый явился в гости заполночь — ворвавшись с отрядом в дремлющую крепость, как и следует доброму другу и близкому родственнику. Горгоны — те, кто ночевал дома — бежали по склону на выручку своему предводителю, собираясь на бегу в крепкий, опасный кулак. А предводитель, голый как при рождении, бешеный, как при взятии Аргоса, пьяный, как сатир в кругу нимф, кричал без умолку:
— Ко мне! Сюда! Я стал прадедом!
И, после краткого, оглушительного мига тишины:
— Ну, стану. Скоро…
— Ты уже прадед, — осторожно сказал Алкей. Верный раб разложил для него ременной дифрос, и Алкей, кряхтя, сел. — Моя дочь тебе кучу правнуков нарожала. И правнучку. Что-то я не помню, чтоб ты так орал…